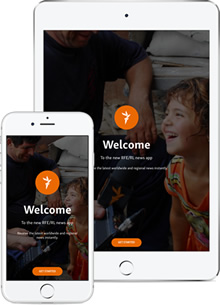Режиссер Александр Молочников, в 2022 году уехавший из России в США, поставил в Нью-Йорке спектакль "Чайка: подлинная история". Постановка получилась отчасти автобиографической. Главный герой – молодой режиссер-эмигрант, поплатившийся за свою антивоенную позицию карьерой в России. Оказавшись в Нью-Йорке один, без денег и связей, он не расстается со своей мечтой – поставить собственную, авангардную версию чеховской "Чайки". Сам Молочников в Москве ставил спектакли в Большом театре и МХТ, но после его отъезда из страны и антивоенных постов в соцсетях его фамилию убрали с афиш, а вскоре исчезли из репертуара и сами постановки. Пьесу на английском по его наброскам написал американский драматург Илай Рэри. Еще до премьеры "Чайку" отметили местные критики. Газета New York Times даже включила ее в подборку лучших спектаклей так называемого off-Broadway. (В Нью-Йорке это собирательное название для независимых театров с залами меньше, чем на 500 мест.) Спектакль идет в известном нью-йоркском театральном центре La Mama до 1 июня. Продюсером постановки стал фонд MART Foundation, который возглавляет еще одна эмигрантка новой волны, Софья Капкова. Накануне премьеры Александр Молочников рассказал Радио Свобода о том, почему он не отождествляет себя со своим персонажем, о проблемах со свободой творчества в России и в Америке, и о спектакле, который он хотел бы поставить на родине.
– Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах вашего отъезда из Москвы.
– В двух словах: я просто поступил в Колумбийский университет. И узнал о поступлении в момент начала всего – еще в конце февраля. Поэтому война, так сказать, подтолкнула к тем решениям, которые назревали. То есть я подал документы еще в ноябре – хотел поучиться кино. Но уезжая, не совсем понимал, что это эмиграция, а не временный отъезд.
– Я недавно общалась с одним русским художником, который уехал тоже после начала войны – и подумывает о том, чтобы вернуться. Он высказал такую мысль: "В России можно работать и всё делать, но ты ничего не можешь сказать. А за границей, в эмиграции, можешь все что угодно сказать, но это никому не нужно"….
– Я категорически не согласен с обеими частями этого тезиса. Даже с тремя! Во-первых, что-то можно говорить в России. Мы видим, что есть люди, которые там продолжают что-то делать: Лев Абрамович Додин, Женя Писарев, Андрей Могучий… Какие-то молодые ребята… Есть, например, такое "Пространство внутри". Все они делают явно то, что они хотят делать! Да, наверное, с каким-то количеством ограничений, но они стараются делать, быть художниками. Я уверен, что у них это в той или иной степени получается. Это первое! Второе – здесь, в эмиграции, далеко не все можно сказать! И ограничений здесь, пожалуй, даже больше. Другой вопрос, что реакция будет куда меньше, то есть там, в России, тебя посадят, а здесь тебе просто скажут, что так не надо. А если ты это все равно сделаешь, то тебе будет просто тяжело, и мало кто захочет с тобой дальше работать. Здесь очень много ограничений. Сначала они были, так сказать, "новоэтическими" – связанными с властью демократов, такой ультралевой повесткой. Сейчас для тех, кто были левыми, появляются ограничения уже со стороны Трампа. То есть маятник качается, и тоже говорить можно далеко не все. И третье, с чем я не согласен, это то, что здесь нельзя ничего сделать. Примеры – надеюсь, то, что мы выпускаем сейчас этот спектакль, то, что мы сняли фильм небольшой, который уже вошел в лонг-лист BAFTA (престижная британская премия в области кино, телевидения и видеоигр – Р.С.), а еще я получил приз за короткометражку про Сашу Скочиленко. Короче говоря, здесь можно делать, и там тоже можно делать!
– Цензура в России ведь не с начала войны возникла… Когда вы еще работали там, вы с ней сталкивались?
Только оргия с Христом вызывает какую-то реакцию
– Лично никак не сталкивался, почти, до самых последних дней. Да и то, это, буквально была одна какая-то небольшая поправка, за два-три дня до начала войны. Попросили убрать какие-то костюмы, военную форму, увидели в этом "оскорбление" формы. В общем-то, кроме этого, я никогда ни с чем не сталкивался, хотя другие люди сталкивались – например, Театр.Doc. Первый явный случай был, наверное, со спектаклем Тимофея Кулябина "Тангейзер" (в связи с этой постановкой в Новосибирском театре оперы и балета прокуратура возбудила дело об оскорблении чувств верующих – РС). Были еще какие-то эпизоды там и сям… Наверное, это странно, но может быть, ты начинаешь критиковать то место, где находишься. Если бы я был сейчас в России я бы рассказывал о том, что там происходит, но я в Америке, и говорю о том, что вижу здесь. Я считаю, что везде есть ограничения. Я ставил спектакль в Израиле, там они тоже были – с точки зрения того, какие нельзя давать интервью, что нельзя говорить. Я уверен, что куча ограничений в Европе, куча ограничений в Америке. И на самом деле, в сравнении, если вспомнить период девяностых, нулевых и 2010-х годов в России, то до 2022 года это было чуть ли не самое свободное место для высказываний в театре в мире! Театр был до такой степени разнообразный, отвязный, безбашенный! У Кирилла Серебренникова шел спектакль "Машина Мюллер" с 30 голыми людьми на сцене! Шли спектакли Богомолова, совершенно безумные, например, "Идеальный муж". Оперу "Тангейзер" запретили в 2015 году за то, что там была оргия с Христом. Понятно, что позволено делать очень многое, если только оргия с Христом вызывает какую-то реакцию! Должна ли она вызывать реакцию? Наверное, нет. Наверное, художник действительно может делать все, что угодно. Но с другой стороны, это было в Новосибирске. Представьте себе, приходит сибиряк, житель Новосибирска в театр и видит оргию с Христом… Наверное, действительно многие из них были сильно недовольны этим. Должно бы государство защищать в этом случае художников? Я считаю, да! И, конечно, можно делать все, что не нарушает Уголовный кодекс – если этот Уголовный кодекс вменяемый, а не то, что сейчас в России.
– Я задала этот вопрос, потому что в вашем спектакле тема цензуры – одна из основных.
– Цензуры уже после начала войны?
– Да, уже после.
– Собственно, первые 15-20 минут действия это как раз "до войны". И мы там пытаемся показать, что даже при каких-то сомнениях в итоге побеждало решение делать что-то смелое. Всем хотелось чего-то смелого, провокативного! Если это было талантливо, это привлекало публику.
– Тогда почему выбрали тему цензуры, если вас лично она не коснулась?
– Потому что в 2022-м году все, конечно, поменялось. Конечно, она меня в конечном счете коснулась, потому что все мои спектакли сняли из репертуара. Но не за сами спектакли, а за мою поддержку Украины. И начиная с Большого театра, все мои спектакли исчезли с афиш вместе со спектаклями других замечательных режиссеров – Кирилла Серебренникова и Крымова тоже сняли, и Кулябина, и многих других. И Туминаса. Есть разные формы это запрета, иногда сначала просто убирали фамилию с афиш. Но в конечном счете эти спектакли не смогли существовать из-за позиции их авторов. Сегодня, я уверен, есть уже очень-очень много ограничений – того, что никто не рискнет делать на сцене. Я просто знаю, что есть какие-то комичные ситуации, когда, например, у актера деталь костюма – какие-нибудь погоны вообще из другого времени… И в антракте приходит звонок от какого-нибудь смотрящего министра или замминистра… И эти погоны срочно сдирают в антракте, человек выходит в костюме с какими-то нитками торчащими на сцену. То, что у нас есть в спектакле, вот этот абсурд всеобщей паники и страха – это все реальность... Я просто не ставил спектакль в момент, когда война уже шла. У меня была премьера за несколько дней до ее начала – 18 февраля, это был спектакль "ПЛАТОНОВ БОЛИТ" в Театре на Бронной. Но я уверен, что если бы я ставил сейчас, я бы это переживал. Я знаю, через что люди проходят, плюс наш друг Женя Беркович сидит в тюрьме.
– А здесь, в Америке, вы столкнулись с чем-то подобным?
Я не ору здесь на людей, как когда-то в России
– Ну, тут всё гораздо сложнее. Скажем так, в России ты знаешь, что в том-то лесу, в таком-то месте лежит атомная бомба. И если ты туда пойдешь, то взорвется все к чертовой матери. Эта атомная бомба – это оскорбление. Ты точно знаешь, где этот лес, ты знаешь, что нельзя оскорблять чувства верующих, нельзя говорить ничего про власть. Нельзя оскорблять, допустим, армию или память Великой Отечественной войны... и церковь, конечно. А здесь эти ограничения, это такое минное поле. И эти мины просто оторвут тебе стопу или палец. Но зато их столько, что ты даже не знаешь, куда пойти. Есть какие-то вещи, настолько неожиданные… Они в очень разных областях лежат. Какие-то – в области, допустим, разговоров, шуток, мыслей на тему расы, пола, различных вариаций полов… Плюс – профсоюзные правила того, что является безопасным, что является уважительным, то является комфортным для актеров. А что, соответственно, является абьюзивным или харрассментом в том или ином виде (может быть ведь и ментальный харрассмент!)… или выражением агрессии… Мне рекомендовали к психологу ходить, когда я вел себя, как мне кажется, каким-то естественным образом – так, как следует себя вести на репетиции, если ты хочешь делать спектакль. Но одна моя сотрудница сказала, что мне нужно срочно идти к психологу. Сама она, кстати, плотно сидит на антидепрессантах, но при этом всегда улыбается и очень nice со всеми... Вот я думаю, кто из нас болен? А я иногда могу позволить себе быть эмоциональным. Я не ору здесь на людей, как когда-то в России, – давно уже этого не делаю. Но я могу на кого-то поднажать, где-то могу сорваться. Те, кто со мной работает, знают, что я это всегда легко, как мне кажется, сбрасываю, и это не длится долго – ну пять минут от силы. Это не реальная злоба на кого-то, это просто некий нервяк в моменте. Вот этот «нервяк в моменте» здесь невозможен. Соответственно, учишься, как говорит Нина у Чехова, терпеть: "Главное не слава, а уменье терпеть".
– Вы в одном из предыдущих интервью говорили, что вы не хотите возвращаться в частности потому, что не видите возможности работать на российскую аудиторию. На людей, которые, допустим, поддерживают войну…
То, что сейчас, слава богу, происходит тут в Америке, для меня важнее
– Это я где такое говорил? Да нет, я не знаю… Может быть, тогда я так думал... Но со временем твои ощущения меняются… Я вот сейчас думаю, что очень важно, чтó именно ты делаешь, про что твой спектакль и из чего состоит диалог со зрителем. Я подумал недавно, что если бы, например, мне предложили сделать спектакль о жизни геев в Чечне, с позиции того, что геи такие же люди, как все остальные…. и если бы я мог это сделать там, и меня бы не расстреляли через две минуты, а я бы просто его выпустил, показывал бы его чеченской публике, например… – то это было бы правильно, это надо было бы сделать, если бы у меня была такая возможность! Поэтому, конечно, если бы в России сегодня я мог бы делать какие-то антивоенные спектакли… С точки зрения, так сказать, моральной, я не вижу в этом ничего, что как-то противоречит моим убеждениям. Мне кажется, что если ты несешь какой-то заряд важного в зал – того, что тебе кажется важным, того, что спорит с мыслями людей, то неважно какой это зритель, с любыми людьми надо, наверное, пытаться разговаривать. Другой вопрос, что мне просто не интересно. Потому что то, что сейчас, слава богу, происходит тут в Америке, для меня важнее. С точки зрения, условно, не карьеры даже, а просто какого-то роста – личного, творческого роста – для меня то, что сейчас происходит здесь, и то, что планируется, несмотря на то, что этого, может быть, очень сложно будет достичь, куда интереснее, чем сделать спектакль в России. Я, честно говоря, уехал в момент, когда можно было дальше уже только вглубь копать, скажем так. Вширь или ввысь особо было некуда, у меня шли одновременно на сцене Большого театра опера и балет, шел в Москве в МХТ спектакль, шел спектакль в Театре на Бронной, вышел сериал, который стал самым просматриваемым в том году. Можно было, естественно, делать еще и пытаться делать это глубже, интереснее, но с точки зрения, так сказать, какого-то карьерного роста, я уж не знаю, куда там было расти. В Америке у меня три года ушло на то, чтобы как бы перезапустить все и сделать этот спектакль, который мы сейчас делаем – мы начинали с каких-то маленьких показов в заброшенном офисе, на втором этаже ресторана, но сейчас мы в прекрасном театре, и через полтора часа придет какая-то такая публика, которая никогда ко мне в жизни не приходила, какие-то известные нью-йоркские люди. Конечно, мне интереснее сейчас с ними повзаимодействовать… Сегодня день премьеры. И если бы это было, например, в России, пришли бы те, кто уже и так много раз приходили ко мне. А здесь это что-то новое… Новое всегда интереснее!
– Ваш спектакль посвящен судьбе режиссера-эмигранта, он автобиографичен. Насколько вам легко было или сложно донести эти проблемы и весь этот контекст до американских актеров?
– Во-первых, у меня очень классные актеры, они дико талантливые люди. С Иланом Зафиром, Жужанной Садковски и Андрюшей Бурковским мы работали с самого начала. Мы уже как какая-то странная семья с какими-то внутренними несогласиями, извинениями – такая коммуналка. А кто-то новый пришел – прекрасная актриса Стелла Бейкер, Эрик Табак и Квентин Ли Мур. Мне с ними просто дико повезло. Но, конечно, да, впустить, так сказать, в себя понимание актерское этого контекста, чтобы не просто играть эти сцены карикатурно, а как-то играть про себя – это заняло время. Но на самом деле, примерно то же время, что и любой процесс спектакля, где артисты должны понять предлагаемые обстоятельства. Это же предлагаемое обстоятельство, если человек играет про начало войны в России. Ему совершенно не обязательно играть про начало войны в России. Он может играть про что-то чрезвычайное в своей жизни. Например, может играть про расставание с любимой девушкой, это может быть такая же катастрофа, как начало войны. Или он может играть про 11 сентября, если ему это понятнее и ближе. Поэтому невелико отличие просто от стандартного выпуска спектакля.
– А сами методы работы с актерами у вас здесь как-то изменились? Насколько я знаю, в Америке школа совершенно другая.
Актеры здесь задают гораздо меньше вопросов, чем российские
– На самом деле, сама школа актерская не то чтобы сильно другая. Действительно, все корни идут от Станиславского. Я помню, мы в первый раз сели в заброшенном офисе читать текст "Чайки". Мне стало так хорошо, это был один из самых счастливых дней. Я вдруг понял, что все окей, потому что мы говорим с ними на одном языке – на языке каких-то театральных понятий, и они все понимают. Ты говоришь: "Здесь будь более личным!" – они становятся более личными. Они абсолютно понимают этот язык, и они росли на всем том же. Поэтому проблемы возникают в методах работы, вовлечении профсоюзов во все это. Что, конечно, сильно отличается от того, что было в России, и, я думаю, от того, что в Европе. Например, в Нью-Йорке вообще нет культа личности режиссера. В России, и, я думаю, в Европе тоже все знают, что единственный человек, у которого в голове есть видение спектакля – это режиссер, без режиссера никак нельзя! Но здесь у актеров куда больше, так сказать, тех, кто их защищает, чем у режиссера. Я сам не нуждаюсь в защите, но они та-ак защищены… Зачастую просто невозможно на них как-то надавить или, там, попросить что-то сделать интимного характера… Это все всегда проходит через какие-то бесконечные круги разбирательств: можно ли поцеловать тут, можно ли поцеловать там… Но глобально к этому всему можно привыкнуть. Я имею в виду не принять это и в итоге смотреть какие-то мертвые сцены, а понять, как с этим взаимодействовать. Это просто каждый раз чуть дольше. Но зато другие вещи происходят быстрее. Актеры здесь задают гораздо меньше вопросов, чем российские. Они натренированы попробовать, а потом подумать, а не наоборот.
– На ваш взгляд, что нового российский театр может принести в те страны, куда выехали его представители? Потому что лучшие наши режиссеры многие уехали, как известно. Может ли это какое-то новое измерение, новое качество придать местному театру этих стран? И что именно это будет?
– Мне кажется, что мы засвидетельствовали невероятно счастливый, свободный, разнообразный период театра… Я говорю "мы" – это, в данном спектакле, я, Андрюха Бурковский, который был одним из ведущих актеров МХТ, Соня Капкова, которая продюсировала очень много – в основном танец, но тем не менее... В Москве мы хлебнули такого разного, такого интересного, такого красочного театра, которого здесь совершенно точно нет. И каждый, кто здесь живет и ходит в театр, а до этого ходил в европейский театр – не обязательно в московский, может быть, в берлинский, французский, итальянский, польский – все они знают, что Америка в этом смысле совершенно лишена этой культуры. Это не значит, что это плохо или хорошо, просто здесь этого нет. Вот как у нас нет мюзиклов, так здесь нет вот этого режиссерского театра пресловутого… Он есть в некой степени, то есть все-таки не будем забывать, что у Роберта Уилсона под Нью-Йорком театр, есть такая Энн Богарт… И вообще, как чем дольше я тут живу, тем больше я узнаю, что о, оказывается, вот здесь вот есть какая-то компания, здесь есть какая-то компания. Но европейские театры куда чаще приезжают сюда, чем местные ездят в Европу, например. Потому что, собственно, чего их везти, тут ничего особо интересного, как мне кажется, нет! Ну и вообще другой подход, в основном это просто актеры, какие-то очень примитивные декорации, текст – то есть нет никакого языка режиссерского. Но надеюсь, вот это мы и привнесём – театр, где какое-то чудо на сцене происходит. Я считаю, что это какое-то невероятное везение, что Дмитрий Анатольевич Крымов здесь, у которого я учился всему этому, и надеюсь, что я как-то в ту сторону пытаюсь двигаться. Мне кажется, что, судя по реакции публики, которая приходит к нам на "Чайку", люди это принимают, для них это не что-то дикое. Другой вопрос, что я проделал довольно большую работу, пытаясь сделать это, грубо говоря, доступным – остаться в языке какого-то визуального театра, который я люблю, но в то же время сделать историю понятной… Не попасть на какую-то полку полного арт-хауса, который просто совсем бы не нашел здесь аудитории. Мне кажется, мы где-то идем, так сказать, по краю.
– В какой-то момент ваш герой приближается к самоубийству. Мне кажется, есть какая-то некая безнадёжность в этой истории – что человек вынужден был уехать из России, потому что там невозможно работать. И здесь в общем-то его работа тоже не очень оказалась нужна, не очень воспринимается. Как я понимаю, это не ваш случай, но тем не менее, почему такой посыл?
– Во-первых, всё-таки эта история не совсем моя: я не ставил "Чайку" перед войной. Но у Чехова Треплев кончает с собой, нам нужно было с этим найти какую-то параллель. Хотя моменты какого-то абсолютного отчаяния у меня здесь, конечно, были. Они и в России, бывали, правда, но здесь, пожалуй, был один… Я живу на 53-м этаже, а крыша у меня на 58-м, я как-то подумал: "Надёжное здание, надёжное… Хороший, красивый прыжок". Было таких три-четыре дня. Но я к счастью, слава богу, не депрессивный человек. Мне не свойственно, уходить в какие-то долгие "улёты", я завишу непосредственно от того, что прямо сейчас происходит. Но были обстоятельства в один момент, когда было действительно очень тяжело. Такой эпизод, может быть, нужно было пережить, чтобы сделать этот спектакль.
– Вы упоминали про Женю Беркович и Свету Петрийчук, которые сейчас сидят в колонии. Вы не думали использовать свой спектакль или ещё какие-то площадки, которые у вас есть, чтобы привлечь внимание общественности западной к судьбе этих людей и других политзаключённых, которых пока ещё не обменяли?
– Мы сняли фильм про Сашу Скочиленко, и в конце этого фильма есть титр, что ещё более тысячи политзаключённых продолжают сидеть в России по столь же абсурдным и незаконным делам. Кроме того, в этом спектакле тоже есть линия человека, которого сажают.
– Это основано на каких-то реальных событиях – линия человека, который погибает в тюрьме?
– Это же сборная история. Я бы сам сидел там, если бы я остался, я уверен, я бы что-то ляпнул рано или поздно. Каждый, мне кажется, в этой ситуации живёт так, как было предназначено, но можно было это предположить. Это как солнце бывает в зените, а бывает на закате. Пока солнце в зените, тень всё равно есть, она просто коротенькая, но всё равно понятно, в какую сторону она клонится. А на закате она становится длинной. Вот эти короткие тени все стали длинными.